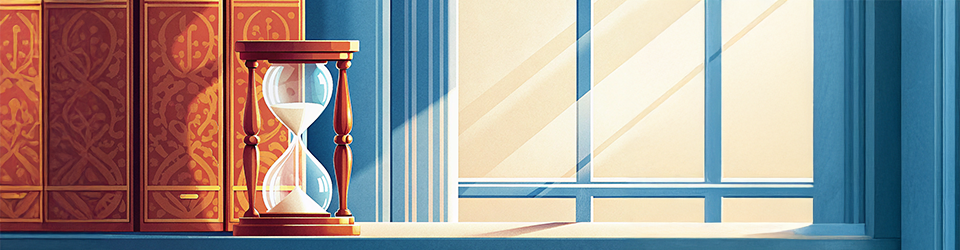Чтобы признать действия участника коллективного доминирования нарушением, нужно доказать, что он мог оказывать решающее влияние на рынок, а конкуренция между участниками была устранена. Если же конкуренция между ними сохраняется, поведение одного из них нельзя квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением. Поскольку антимонопольные органы не представили доказательств совместного поведения и координации между членами группы, то постановление о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП признали незаконным.

До этого ФАС нередко устанавливала нарушения в действиях лишь одного из коллективных доминантов (например в делах в операторов сотовой связи и производителей стекла). Обозначенный Верховным судом подход, соответствует как экономической теории, так и практике регуляторов в иных государствах.
Ранее в п. 9 Пленума 2021 года «о применении судами антимонопольного законодательства» была лишь общая фраза о необходимости оценки «возможности совокупного влияния всех субъектов коллективного доминирования на условия обращения товара на товарном рынке в целом». Управляющий партнер антимонопольной практики Николай Вознесенский отмечает, что этого было недостаточно: суды не делали вывода, что без оценки поведения всех участников нельзя установить злоупотребление одного из них. Например, компания с долей в 10% может формально попасть под коллективное доминирование в условиях олигополии, но на цены повлиять не способна, если остальные продавцы продолжают конкурировать. Теперь судебная практика по таким делам может принципиально измениться.
При оценке злоупотребления доминирующим положением суд учитывает, что любой участник рынка — независимо от его роли — вправе защищать свои законные интересы как обычный участник гражданского оборота. При этом доминирующий субъект обязан соблюдать нормативные требования, установленные для его деятельности.

Суд предлагает детальнее анализировать характер действий доминирующего субъекта и специфику деятельности в границах конкретного рынка. Это позволит дополнительно разграничить нормы гражданского и антимонопольного законодательства. То есть, оценивая признаки антиконкурентного соглашения, суд отдельно будет учитывать субъективную сторону нарушения.
Чтобы привлечь компанию к ответственности по ч. 2 ст. 14.31 КоАП, антимонопольный орган должен доказать наличие или риск возникновения негативных последствий для конкуренции — например, ее ограничения, устранения или недопущения.

Ранее судебная практика не требовала от антимонопольного органа таких доказательств, в основном принимая декларативные фразы о возможности ограничения конкуренции на смежных рынках, например, в делах об установлении монопольно высокой цены. Верховный суд включает в обзор буквально «прорывную» мысль о том, что если целью установления монопольно высокой цены было получение сверх выручки, а не ограничение конкуренции, то оснований для оборотного штрафа может и не усматриваться.
Старший партнер АБ Алексей Костоваров подчеркивает, что важно учитывать последствия нарушения, поскольку от этого зависит вид санкции: ограничение конкуренции или ущемление интересов других лиц. Ранее такую позицию уже озвучивала ФАС в разъяснении от 07.06.2017 года № 8 «О применении положений ст. 10 закона о защите конкуренции».
Если конкуренты действуют на торгах по единой стратегии, чтобы устранить конкуренцию и получить экономическую выгоду, это может указывать на создание картеля и повлечь ответственность по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.
В первом примере две компании и два предпринимателя договорились устно поддерживать цены на аукционах по продаже химической продукции. Они подавали заявки с одного IP-адреса, у них были финансовые связи и долгое сотрудничество.
Во втором, участники торгов подавали заявки с одного IP-адреса, использовали одни и те же учетные записи, изменяли файлы заявок почти одновременно. Плюс у них были финансовые связи — обоюдные займы между организациями.

Дискуссию вызывает вывод о возможности признания картеля между аффилированными участниками закупки, если других участников нет. Без конкурентов, очевидно, нет и выгоды от сговора, на необходимость установления которой прямо указывал Верховный суд в постановлении Пленума 04.03.2021 № 2
Участники договорились искусственно снизить цену на аукционе, но победителем торгов стал не участник картеля, а сторонний конкурент. Верховный суд указал, что даже неудачная попытка реализации картельного соглашения не исключает ответственности за антиконкурентные действия.
Для квалификации действий хозяйствующих субъектов в качестве «картеля» важно именно наличие доказательств заключения такого соглашения, а не его исполнения. Кроме того, в отличие от других видов антиконкурентных соглашений, антимонопольному органу не требуется доказывать наличие негативных последствий, поскольку в случае с картелем они фактически презюмируются.
Само по себе искусственное дробление сделки заказчиком для обхода торговых процедур не доказывает наличие антиконкурентного соглашения между заказчиком и поставщиком. Чтобы привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 14.32 КоАП, антимонопольный орган обязан доказать не только факт дробления, но и наличие согласованных, виновных действий всех участников предполагаемого антиконкурентного соглашения. Без этого привлекать к ответственности по антимонопольным нормам нельзя.
В частности, суд указал, что наличие серии гражданско-правовых договоров между заказчиком и единственным поставщиком само по себе не может свидетельствовать о наличии антиконкурентного соглашения, отмечает Кожевников.
Верховный суд подтвердил, что если организация фактически осуществляет функции исполнительного органа хозяйствующего субъекта, это свидетельствует о наличии контроля в смысле ч. 8 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Такой контроль исключает применение антимонопольных запретов и мер ответственности за заключение соглашений между связанными лицами.
На практике только при определенных условиях антимонопольные органы признавали иммунитет для так называемой подконтрольной группы лиц в форме контроля одного лица в отношении другого по основанию осуществления функций исполнительного органа. Антимонопольные органы обычно исходят из того, что для передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа недостаточно договора — нужно также внести сведения о получателе полномочий в ЕГРЮЛ. То есть информация о договоре должна быть общедоступной, поясняет адвокат Дмитрий Павловский.

В настоящее время иммунитет в отношении соглашений больше не действует даже для групп лиц, подконтрольных по любому основанию из ст. 9 закона «О защите конкуренции». Но позицию Верховного суда можно применить в делах о нарушениях до сентября 2023 года.