Ольга Гордеева: «Врач-онколог должен быть гуманистом»
Онколог-химиотерапевт, заведующая дневным стационаром Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, автор просветительского проекта «Онкология простыми словами», кандидат медицинских наук Ольга Олеговна Гордеева поделилась с «ПОИСКОМ» своим опытом во врачебной практике, клинических исследованиях и ведении просветительского проекта. О том, что нужно знать об онкологических заболеваниях, что следует делать, чтобы не увеличивать риск их развития, и на какие новые эффективные методы лечения можно надеяться в будущем, читайте в нашем материале...
– Ольга Олеговна, что повлияло на Ваш выбор профессии?
– В значительной мере повлияла моя семейная история: мои родители и бабушка с дедушкой – врачи. Так что я с самого детства знала, что пойду в медицину и тоже буду врачом. Хотя родители и пытались меня отговаривать. Моя мама даже отправляла меня «на экскурсию» в больницу, надеясь, что это меня отпугнет. Так что, еще учась в школе, несколько раз посещала отделение гнойной хирургии, присутствовала на операциях с ампутациями и так далее. Но эффект был обратным маминым ожиданиям: мне там было очень интересно и окончательно приняла решение пойти в медицину.
– А как Вы определились с выбором Вашей врачебной специальности – врач-онколог?
– В годы обучения в «первом меде» (прим. ред.: Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова) рассматривались разные варианты. Как-то раз, когда мы с папой обсуждали мою будущую специализацию, речь зашла об онкологии…
Когда этот вариант прозвучал впервые, я засомневалась. «Да, – говорю я, – специальность очень интересная, но там же все умирают». На что папа ответил: «Если ты не готова к тому, что люди умирают, тебе вообще не место в медицине». Эта мысль меня отрезвила. А потом я узнала, что онкологические пациенты не обязательно умирают, что есть и те, кто выживают, выздоравливают и больше не возвращаются к врачам. Мне показалось это каким-то чудом. Стало ясно, что именно этим мне и надо заниматься.

– Как у Вас как возникла идея создать телеграм-канал «Онкология простыми словами»?
– Так получилось, что каждый раз, когда я общалась с пациентами, я отвечала на одни и те же вопросы. Я даже сейчас могу их перечислить: «Правда ли, что сахар «кормит» рак?», «Правда, что нельзя есть белок?», «Правда ли, что надо избегать воздействия прямых солнечных лучей?» и так далее. И мне пришла мысль, что я могла бы отвечать на эти похожие вопросы множеству людей сразу. С этой целью я и создала свой телеграм-канал. Позже каналом заинтересовались пациентские сообщества. Они начали обращать внимание на мои посты, распространять их у себя, и таким образом канал начал расти.
– Какие еще задачи, помимо предоставления пациентам интересующей их информации, Вы ставите ли перед собой в части развития Вашего просветительского проекта?
– Пожалуй, я стремлюсь дать людям понимание по крайней мере двух очень важных вещей. Прежде всего, мне бы очень хотелось, чтобы люди не боялись. Если кого-нибудь спросишь, чем самым страшным вы боитесь заболеть, я думаю, абсолютное большинство назовет рак. Но в действительности есть заболевания гораздо более страшные, просто они редкие, их не так часто видят. И мне бы хотелось, чтобы люди не так сильно боялись рака, чтобы они знали и про положительный опыт в его лечении, про множество случаев с благополучным исходом, о новых разработках, которые уже внедряются… И, главное, знали о том, что даже если тебе поставлен онкологический диагноз, не нужно терять надежду.
Другой важный момент: онкология – область, очень неопределенная в плане прогнозов. Мы никогда не можем со 100% гарантией сказать пациенту, что он выздоровеет, и наоборот, никогда нет полной уверенности в том, что все будет плохо. Поскольку пациент вынужден жить в состоянии неопределенности, для меня было очень важно показать, что, несмотря на эту неопределенность, в терапии не царят произвол и случайность – в ней есть внутренняя логика. И за рекомендациями, решениями и действиями врача есть метод, есть наука и некие упорядоченные рассуждения.

– Не могли бы Вы немного подробнее остановиться на этой внутренней логике онкологического лечения? По каким принципам оно назначается отдельно взятому пациенту?
– Лечение подбирается исходя из многих факторов. Во-первых, учитываются особенности самого человека. Сопутствующие заболевания, выносливость организма, возраст – все это играет роль. Пожилому пациенту не станешь прописывать интенсивный курс химиотерапии, ему лучше подобрать что-то более щадящее, а молодому организму гораздо легче перенести такое лечение, и дальнейший прогноз будет лучше.
Во-вторых, имеют значение характеристики опухоли: ее локализация, размер, гистологическое строение (прим. ред.: строение на тканевом уровне). Последние два десятилетия также обращают внимание на молекулярное строение, особенности белков, из которых состоит опухоль и прилежащие к ней ткани.
Для локализованных опухолей, за некоторыми исключениями, хирургическое лечение является основным методом, позволяющим пресечь опухолевый процесс. Химиотерапия при локализованных опухолях в основном применяется в двух случаях. Либо ее назначают до операции для того, чтобы помочь хирургу уменьшить опухоль до оперируемых размеров. Либо – после операции, совмещая химиотерапию с лекарственным лечением для профилактики отдаленных метастазов и улучшения прогноза в дальнейшем. Для этой же цели могут назначить и таргетную терапию. Бывают случаи, когда опухоль не оперируема, например, при наличии отдаленных метастазов, или она слишком большая и ее нельзя удалить. Тогда на помощь нам приходит системное лекарственное лечение.
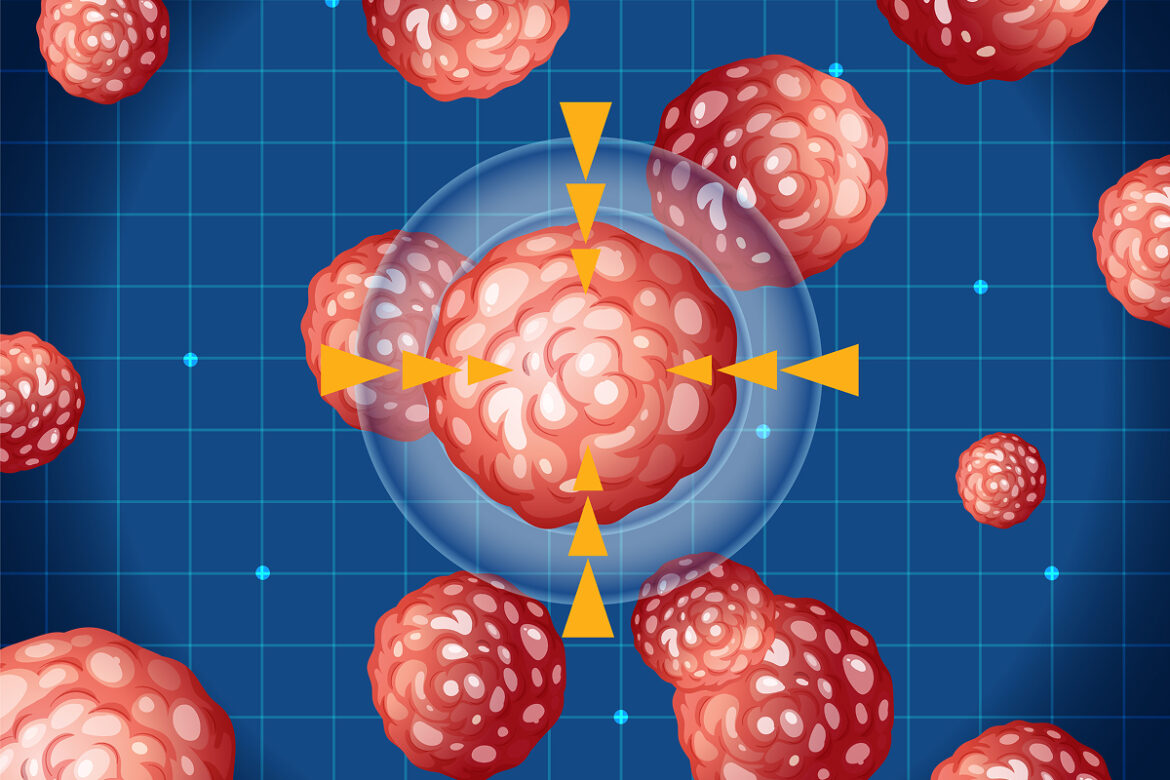
– Вы могли бы назвать главные преимущества и недостатки различных методов лечения – химиотерапии, иммунотерапии, хирургического удаления опухолевой ткани, таргетной, лучевой терапии ?
– Нельзя сказать, что химиотерапия лучше, чем таргетная терапия, или иммунотерапия лучше, чем химиотерапия – у каждого метода есть свое предназначение. Например, лучевую терапию широко используют, если опухоль сложно удалить, скажем, если она локализована в голове или шее. Это достаточно деликатная область для того, чтобы проводить хирургические вмешательства. Но лучевая терапия хорошо справляется с этими опухолями. При некоторых видах опухолей шейки матки тоже проводят химиолучевое лечение и не прибегают к хирургическому вмешательству. А иммунотерапия, например, произвела настоящую революцию в лечении меланомы кожи, поэтому конкретно для этого вида опухоли данный вид лекарственного лечения является предпочтительным. С другой стороны, при некоторых редких заболеваниях, например, при герминогенных опухолях, ни о какой иммунотерапии или таргетной терапии речи не идет – химиотерапия справляется настолько хорошо, что даже не требуется добавлять к ней какие-то современные методы, лекарственные препараты и проч. Таким образом, лечение складывается из множества различных нюансов, но за всем этим всегда стоит довольно четко выверенная логика.
– С какими трудностями Вы сталкивались в своей работе в качестве врача-химиотерапевта?
– Как и любому врачу, мне приходится иметь дело со сложностями, которые сводятся к борьбе с системой. С одной стороны, речь идет о бюрократической волоките, заполнении бумажек и выписывании направлений. С другой – о некоторых особенностях финансирования, которые лимитируют нас в оказании помощи всем, кому она необходима. Это не особенность медицины конкретно в России – онкология настолько дорогостоящая область, что ни одна система здравоохранения в мире не может позволить себе обеспечить всех пациентов всеми препаратами.
Другая сложность – психологического толка. Периодически любой врач оказывается в ситуации, когда пациенту больше нельзя помочь ни терапией, ни доступными препаратами. С этим надо каждый раз примириться самому и найти в себе моральные силы донести эту информацию до пациента.
– Было время, когда от пациентов намеренно скрывали такие диагнозы как родные, так и врачи. Какой сейчас взгляд на это?
– Сейчас врачи всегда доносят до пациента правду, ничего не скрывая. Конечно, поскольку информация травмирующая, мы стараемся делать это бережно. В разговоре стараемся избегать слова «рак» – говорим «злокачественная опухоль» или «новообразование». Тем не менее, абсолютно все мои пациенты понимают, какой диагноз им установлен и что предстоит нелегкий путь лечения.
Бывают ситуации, когда родственники пациента, например, очень пожилого, просят скрыть информацию. Но я объясняю, что не могу так поступить ни по закону, ни по моральным соображениям.

– А какого рода трудности встают перед Вами как перед автором телеграмм-канала «Онкология простыми словами»?
– Тут есть трудности специфичные и неспецифичные для моей темы. По меткому замечанию одной моей пациентки, аудитория соцсетей – это срез общества: люди здесь встречаются самые разные. Как и на любом онлайн-ресурсе, есть те, кто пришел вылить свой негатив, – «интернет-тролли». С этим явлением ничего не поделаешь, нужно просто смириться с тем, что такое существует.
Иногда вокруг канала собираются люди, которые верят в теории заговора врачей и фармкомпаний и предлагают «народные» методы без каких-либо доказательств. Они не опираются на науку и не готовы слушать аргументы, ссылаясь только на слова каких-то гуру. Если раньше я пыталась вступать в дискуссию, то теперь подобные комментарии, чтобы не тратить время впустую, сразу удаляются. С другой стороны, если человек просто обращается за информацией, я готова ее предоставить. Я всегда открыта для вопросов в духе «А почему Вы считаете, что травы и грибы неэффективны?».
– О каких еще заблуждениях, связанных с онкологией, следует предостерегать людей в первую очередь?
– Прежде всего, мне хотелось бы развеять заблуждение о том, что рак – это конец. Это не так: многие вылечиваются и живут дальше.
Более того, и самые непростые случаи – четвертая стадия и отдаленные метастазы – это еще не приговор. Многие пациенты с распространенным процессом живут годами, борются, сражаются, получают лечение. Причем терапия не всегда бывает такой токсичной и тяжелой, что человек в мучениях лежит под капельницей. Многим назначают медикаментозное лечение, и они принимают таблетки и продолжают ходить на работу, ведут активный образ жизни.
Многие убеждены, что при раке «ничего нельзя»: на море отдыхать нельзя, то-то и то-то в пищу употреблять нельзя – в общем, никакого удовольствия от жизни получать нельзя. Это еще одно заблуждение. 99% того, что можно здоровому человеку, можно и онкологическому пациенту. Диагноз может менять твой образ жизни, особенно если это заболевание становится хроническим, но по мере сил надо продолжать радоваться жизни и все от нее брать.
К сожалению, люди не так часто задумываются о том, что их заболеваемость в определенной мере зависит от них самих – от их образа жизни. По данным одного клинического исследования, около половины смертей от онкологии можно было бы предотвратить, если бы люди отказывались от вредных привычек. Да, здоровый образ жизни не служит 100% страховкой от заболеваний, и наоборот, вредные привычки не всегда приводят к онкологии. Но статистика показывает, что их наличие резко увеличивает риск заболеваемости. Основной «вклад» вносят курение, алкоголь, вирусные инфекции и сидячий образ жизни – именно с этими факторами связаны те виды опухолей, которые лидируют не только по заболеваемости, но и по смертности.

– Вы могли бы привести примеры таких связей?
– Рак легкого – связан с курением; колоректальный рак – с питанием и сидячим образом жизни; рак молочной железы и рак эндометрия – с ожирением; рак пищевода – с употреблением алкоголя и курением. Помимо рака легкого и рака пищевода курение вызывает еще и рак верхних дыхательных путей. Еще один «лидер по заболеваемости», рак шейки матки, развивается чаще всего из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Кстати, против этого вируса есть вакцина – единственная на сегодняшний день действенная профилактика против рака шейки матки. К сожалению, про нее до сих пор мало кто знает и мало кто прививается, хотя надо бы. Оптимально вакцинироваться до начала половой жизни. Поскольку штаммы ВПЧ передаются с половым контактом, лучше всего делать прививку, когда они еще не попали в организм. Но можно сделать это и позже: 5 лет назад рекомендовали прививать женщин вплоть до 27 лет, а сейчас – и до 40 лет.
– Какие новые данные об онкологических заболеваниях и методах их лечения появились за последние годы?
– Онкология - относительно новый раздел медицины, существующий всего два столетия, а химиотерапия как эффективный метод лечения появилась только в конце 1940-х годов. На протяжении своей недолгой истории эта область исследования...была сосредоточена на самих злокачественных клетках – то есть тех клетках, которые начали бесконтрольно делиться и формировать опухолевый узел. Но совсем недавно фокус внимания исследователей стал понемногу смещаться: им становятся интересны не только сами опухолевые клетки, но и так называемое «микроокружение опухоли». Как выяснилось, сама по себе опухоль не только своими силами может расти, завоевывать новые пространства, метастазировать и вызывать все те проблемы, с которыми борются онкологи. Значительный вклад в развитие злокачественных образований вносит так называемое «опухолевое микроокружение» – это клетки соединительной ткани, а также клетки, прилегающие к опухоли. Сами они не являются опухолевыми, но по каким-то причинам «обслуживают интересы» опухоли и позволяют ей жить и развиваться. Многие исследования сейчас посвящены изучению опухолевого микроокружения и тому, как мы можем на него повлиять, чтобы нарушить жизнедеятельность опухоли и в итоге ее устранить.
А если мы говорим про новые тренды в лечении рака, то около 10-15 лет назад появилась иммунотерапия – метод, который доказал свою эффективность, будучи при этом более щадящим, чем хирургические операции и химиотерапия. Разумеется, у этого метода, как у любого действующего вещества, тоже бывают осложнения. Терапия может чрезмерно активировать иммунную систему, так что в результате возникают аутоиммунные реакции, и иммунная система начинает разрушать свои же здоровые клетки и ткани. Кроме того, не все опухоли реагируют одинаково хорошо на иммунотерапию. Например, саркомы очень плохо реагируют на иммунотерапию.

Другое важное нововведение появилось лет семь назад – это конъюгированные препараты. Они представляют собой гибрид химиотерапевтических и таргетных препаратов. Конъюгаты радикально изменяют подход к лечению онкологических заболеваний и для многих опухолей демонстрируют совершенно фантастические эффекты.
– Какие новые онкологические препараты и дженерики недавно выпустили в России и какие новые препараты сейчас проходят клинические испытания?
– Как в нашей стране, так и за рубежом препараты разрабатывают частные фармакологические компании и потом сами выводят их на рынок. Например, недавно отечественная биотехнологическая фирма «Биокад» выпустила оригинальный иммуноонкологический препарат, предназначенный для пациентов с метастатической меланомой. Он называется «Пролголимаб» в честь Ольги Голубевой – исследовательницы, которая его изобрела.
Вообще оригинальные препараты – на профессиональном жаргоне это называется «молекулами» – у нас сейчас производят довольно редко, главным образом из-за проблем с финансированием. Российские фармакологические компании, такие как «Фармасинтез», «Валента Фарм», «Р-Фарм», «Генериум», тот же «Биокад», в основном делают дженерики – биоаналоги лекарственных препаратов, изобретенных за рубежом.
Сейчас в России проводят множество клинических исследований, связанных с разработкой дженериков. Совсем недавно, например, истек срок патента на «Деносумаб» – препарат для лечения остеопороза, который также используют при костных метастазах – значит, сейчас будет бум клинических исследований. Три предприятия уже их запустили.

– Вы принимали участие более чем в 20 клинических исследованиях, в том числе международных. Расскажите, пожалуйста, как устроена коммуникация между институтами, инициирующими такие исследования, и практикующими врачами.
– Фармкомпании, работающие над тем или иным препаратом, выбирают базы для своих клинических исследований и предлагают им принять участие. Такими базами становятся наиболее крупные онкологические клиники. Если клиника решает участвовать в клиническом исследовании, врачи отбирают пациентов, подходящих под заданные критерии, и включают их в исследование.
Пациентов предварительно информируют обо всех нюансах и возможных рисках, и, если они принимают все условия, то подписывают информированное добровольное согласие. Вообще по международному этическому стандарту GCP (Good Clinical Practice – «Надлежащая клиническая практика»), в рамках клинических исследований интересы пациента и его благополучие всегда должны быть на первом месте.
Большинство исследований давали успешные результаты. Например, в 2019 году я участвовала в исследовании KEYNOTE-522, посвященном изучению иммунотерапии в неоадъювантном режиме при раннем и местнораспространенном трижды негативном раке молочной железы. По итогам этого исследования иммунотерапия себя зарекомендовала как хорошая опция терапии для пациентов заданной группы.
Был и не очень удачный опыт, но в науке и отрицательный ответ – это тоже ответ. Это значит, что дальше в этой области копать не нужно и следует переключиться на другие аспекты. В любом случае пациенты, участвуя в клинических исследованиях, получают тщательное обследование и лучшее лечение, доступное на настоящий момент. Так что с точки зрения пациента участие в клиническом исследовании – это, несомненно, положительный опыт. А с точки зрения врача – это возможность поучаствовать в чем-то глобальном, что объединяет врачебное сообщество на региональном или международном уровне.

– А какие актуальные разработки сейчас ведут в РФ и в мире? Какие нововведения можно ожидать в ближайшие годы?
– Самые многообещающие разработки сейчас ведутся вокруг онкологических вакцин. Насколько я знаю, в СМИ эту тему нередко преподносят не совсем адекватно, словно это панацея и едва ли не уже свершившееся дело, но в действительности все обстоит несколько иначе. Во-первых, разработки этого метода пока еще находятся на ранних этапах. Во-вторых, в отличие от вакцин против инфекций, онковакцины будут использоваться не для профилактики, а при лечении. Наконец, речь не идет об универсальном лекарстве, даже в масштабах какой-то одной разновидности рака. Онковакцина предполагает индивидуальный подход, при котором нужно будет изучить конкретную опухоль, ее индивидуальные особенности и заставить иммунную систему конкретного пациента реагировать именно на эти особенности. Но, тем не менее, несмотря на эти нюансы, метод действительно представляется очень перспективным.
– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать врач, работающий с онкологическими пациентами?
– Терпением, прежде всего. Иногда люди свою боль выражают в виде агрессии, и когда приходится с этим сталкиваться, нужно помнить о том, что на самом деле эти люди в отчаянии и им очень тяжело, и относиться к этому с пониманием.
Кроме того, пациенты, помимо физической боли, отягощены грузом эмоциональных переживаний, связанных не в последнюю очередь с тем, как работает медицинская система.
Нужно любить людей и уметь понять, что им нужно. Кто-то предпочтет пожить, может быть, меньшее число дней, но зато более качественно. Это можно понять, только если ты искренне придерживаешься гуманистических принципов, а не сугубо профессионального подхода, требующего лечить – и лечить во что бы то ни стало. Врач-онколог должен быть убежденным гуманистом.
И я бы прибавила к списку необходимых качеств еще умение отключить голову. Выходя из клиники, ты должен переключаться, иначе просто сойдешь с ума. Очень важно, чтобы у человека, который занимается таким морально тяжелым делом, помимо работы существовало что-то еще: увлечения, семейные дела и прочее.

– А что лично Вам помогает переключиться?
– У меня есть увлечение, связанное с языками. Когда ты учишь языки, особенно посещая очные занятия в группах, ты погружаешься совсем в другую атмосферу, и мысли направляются совершенно в другую сторону. Ты думаешь о путешествиях, о незнакомой культуре, о ее истории, открываешь для себя новый мир. Изучение иностранных языков очень обогащает в культурологическом плане, расширяет кругозор.
– Какие языки Вы учили? И какой еще хотите изучать?
– Я хорошо говорю по-английски, по-немецки и по-испански. Еще я учила арабский, но не могу сказать, что я им владею. Могу по-арабски какие-то простые вещи рассказать про себя, про свою семью, может быть, про что-то еще, умею читать – на этом мои навыки заканчиваются. Но я получила огромное удовольствие, пока изучала арабскую вязь и фонетику. Теперь думаю про турецкий. Я всегда выбирала по одному и тому же принципу: нужно учить какой-то «корневой» язык, через который сможешь понимать другие.
– Что служит для Вас стимулом в Вашей непростой работе?
– Главный стимул для меня – это люди. Я вижу, как они выздоравливают, и это замечательно. Бывает, что люди умирают, но и в этих случаях я знаю, что, даже если мне не удалось вылечить человека, все равно я была рядом с ним. И проходя все те тяжелые испытания, он не чувствовал себя брошенным, не был одиноким – он знал, что ему есть к кому обратиться. Мне кажется, в этом и состоит миссия врача – быть рядом, и это очень вдохновляет что-то делать дальше. В конце концов, наверное, любой человек хотел бы прожить свою жизнь так, чтобы она прошла не зря. Моя работа мне дает ощущение, что я все-таки живу не зря.
Беседовала Наира Кочинян
Изображение на обложке: ТГ-канал «Онкология простыми словами»
Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.