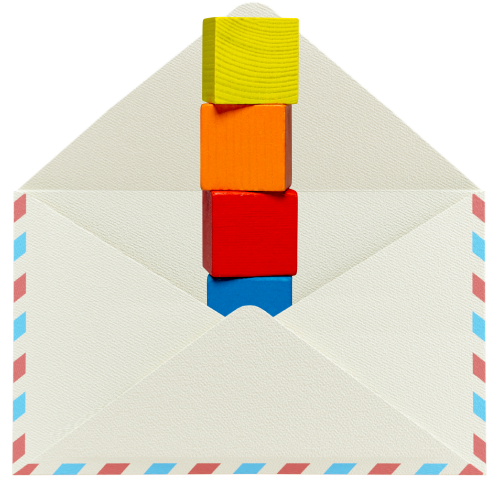«Если ребенок иначе устроен, система координат рушится»: психиатр — о детях с аутизмом
Аутизм — это больше, чем сложности с общением.
Даже при умеренной симптоматике ребенку с расстройством аутистического спектра трудно инициировать и поддерживать диалог, взаимодействовать с другими людьми, вливаться в коллектив, различать подтексты и иронию, трактовать язык тела, дружить. В более сложных случаях возникают проблемы с речью, нарушения моторики, интеллектуального развития, поведенческие особенности.
Система помощи несовершенна, поэтому семьям, которые столкнулись с РАС, бывает непросто добиться адекватной терапии и подходящих образовательных условий для ребенка. Детский психиатр Елисей Осин рассказал, почему аутизм нельзя вылечить, но надо лечить, где учить и развивать детей с РАС, как помогать семьям, столкнувшимся с этим нарушением развития, и какова его природа.
«Люди приходят в мир с нарушенной способностью контакта»
— Что такое расстройство аутистического спектра и почему это именно спектр?
— Есть такое понятие, как развитие. Оно очень важно и значимо: мы хотим, чтобы наши дети развивались. И есть большая категория психических расстройств, которая называется «нарушения развития», «расстройства развития». Вся соль в том, что когда мы говорим про расстройство аутистического спектра, мы на самом деле говорим про развитие, а именно про его искажение.
Аутизм для нас, врачей,— это один из диагнозов искаженного, нестандартного, необычного развития. Это одна из проблем, с которой человек может столкнуться, развиваясь, приобретая умения и навыки, пытаясь адаптироваться в этом мире. При этом нарушений развития немало. Людей с расстройством аутистического спектра примерно 2%. В России специально не считали, но все европейские, южнокорейские, американские эпидемиологические исследования — вокруг этих цифр
Так вот РАС — это нарушение способности к эффективной социальной коммуникации, с которым человек родился. Психиатр Лео Каннер — врач, которому приписывают первое описание аутизма как синдрома, — сказал: «Люди приходят в мир с нарушенной способностью контакта». Уже по этому определению можно судить, какая это широкая категория нарушений социальной коммуникации — это и ее отсутствие, и недостаток, и неуклюжая, неловкая социальная коммуникация, и недопонимание, и так далее.
Кроме того, у одной и той же проблемы, как везде в медицине, может быть разная степень выраженности. Бывает, к примеру, пневмония тяжелая, а бывает легкая. Она для человека в любом случае не подарок, но легкая степень с минимальным поражением легочной ткани — это одно. А двусторонняя пневмония, когда легочная ткань поражена на 70%, — совсем другое.
Так и у нарушения социальной коммуникации бывает разная степень выраженности. Выходит, что в одной группе оказываются совершенно разные, на первый взгляд, люди. Например, десятилетняя девочка, которая совершенно не говорит, суперимпульсивная, с тяжелыми проблемами в поведении, эпилепсией, и девушка 25 лет — с раннего возраста у нее выражены сложности во взаимодействии и есть ограниченность интересов: предположим, ей нравятся персонажи из комикса или мультфильма, которых она впервые увидела еще в детстве и до сих пор ими увлекается. Но она активистка, учится общаться, разрабатывает для себя сценарии коммуникации с людьми, свободно рассказывает о своих сложностях другим и борется за уважительное отношение к себе.
Неподготовленному человеку бывает сложно понять, почему у обеих стоит один и тот же диагноз — «расстройство аутистического спектра». А все потому, что в основе РАС так или иначе лежит проблема социальной коммуникации. Но в первом случае симптоматика выражена в большей степени, а во втором — в меньшей. Двусторонний контакт, взаимодействие людям с аутизмом всегда даются гораздо сложнее, чем другим.
— Почему, если существует понятие «расстройство аутистического спектра», иногда выделяют синдром Каннера, синдром Аспергера, атипичный аутизм?
— Ответа на этот вопрос в контексте истории больше, нежели в контексте реальной клинической картины.
Вот в чем дело. Есть какие-то особенности, очевидные глазу, — например, рост человека. Мы видим это буквально и замечаем довольно быстро. Но чтобы понять, что есть люди разной социальности и как-то это назвать, нужно гораздо больше условий. В частности, нужен специалист, который владеет представлением о нормальном развитии ребенка. Этот человек должен наблюдать за детьми — но не как бабушка у подъезда, а с целью описывать и ставить диагнозы.
И вот то, что люди бывают высокого, среднего, низкого роста, мы поняли очень давно. А то, что люди разные по социальности, мы начали понимать и определять как диагноз с конца 19-го века. Тогда доктор Джон Даун пытался разобраться, какие нарушения развития бывают, и среди прочего описал и то, что сейчас мы называем аутизмом.
И дальше Каннер, Аспергер и другие врачи стали замечать нарушения социального взаимодействия. Один называл его аутистической психопатией, второй — детским аутизмом, третий — шизоидным и так далее. В итоге в начале 20 века в разных местах земного шара люди открывают для себя этот феномен нарушенного социального взаимодействия, описывают его и присваивают ему название.
И потом потихоньку все начинает собираться в единую картину. Специалисты понимают, что на самом деле Каннер, Аспергер, Мнухин, Сухарева, детские психоаналитики описывали одно и то же явление — нарушение социальной коммуникации. То есть сначала эти феномены представляли как нечто различное, а потом пришли к выводу, что у них схожего больше, чем разного. Так что диагнозы, которые вы назвали, — это все попытки описать феномены искаженного социально-коммуникативного развития, сделанные разными людьми в разное время. В конце концов их объединили в один термин — «расстройство аутистического спектра».
Скоро мы перестанем говорить «синдром Каннера», «синдром Аспергера». Эти диагнозы уйдут на задний план. Так же, как ушла «чахотка» — потому что теперь мы называем ее «туберкулез».
— По каким особенностям поведения родители могут заподозрить у ребенка аутизм? И в каком возрасте это возможно?
— В первую очередь родители должны увидеть сложности в развитии — что развитие не получается, у ребенка не выходит то, что обычно выходит у детей. И сравнение здесь работает. Можно сравнивать ребенка с другими. Нужно обращать внимание на развитие социально-коммуникативной функции — это взаимность, диалог, невербальная коммуникация, жестикуляция, выражение лица, позы, способность нравиться и как бы быть на одной волне с ситуацией, с другими людьми
После года. Если родители видят, что ребенок не реагирует, когда его зовут или называют по имени, или реагирует редко, вполне возможно, что его социальная включенность низкая — ему неинтересно. Это повод обратиться к специалисту. Обычно детям очень важно, когда их зовут, что-то им показывают, с ними играют. Для них это все — условия выживания, развития.
После полутора лет должна появиться жестикуляция. В этом возрасте дети пытаются что-то объяснять, рассказывать, повторять наши жесты, звуки. И если не формируются жесты, ребенок не повторяет за другими, не изъясняется, не поддерживает диалоги — это проблема.
В два года дети обычно начинают пользоваться языком той культуры, в которой они находятся. В это время в их словарном запасе несколько десятков и даже сотни слов. Понятно, что ребенок еще говорит не как мы, взрослые, у него свои слова-заменители. Но он этой речью пользуется для диалога. И если видно, что не получается, что у ребенка нет способов донести свои желания, а попытки это сделать вызывают кучу напряжения и стресса, надо беспокоиться.
В три с половиной — четыре с половиной года уже интересно с кем-то дружить. Когда друзья не появляются, у ребенка не выходит вписывание в социальные контексты — быть частью какой-то дружеской пары или триады, группы — тоже надо разбираться. Ведь некоторые люди с аутизмом вполне себе и на имя реагируют, и жестами пользуются, но у них возникают трудности со сложными социальными задачами — вписаться в дружбу, в предложенную социальную ситуацию.
По сути, это главное, на что нужно обращать внимание. И здесь не работает «все по-разному развиваются». Некоторые развиваются так плохо, что мы им диагностируем нарушение развития.
— Вы сказали, что примерно у 2% людей есть расстройство аутистического спектра. Это много. И кажется, что в последнее время РАС встречается все чаще. Это связано с тем, что его научились диагностировать?
— В том числе. Диагностов и информации становится больше, люди более осведомлены. А еще меняются правила диагностики. Вспомним критерии Каннера из 1943 года. Он писал, что люди с аутизмом обладают двумя свойствами: крайним отчуждением и навязчивым стремлением к сохранению постоянства. Эти критерии позволяют диагностировать РАС у одного из ста людей с аутизмом. Я не утрирую.
Не все люди с нарушением социальной функции таковы. Например, есть дети, которые отчуждены до тех пор, пока с ними не начинают взаимодействовать. Пришел какой-нибудь эффективный специалист, создал условия: привлек ребенка мыльными пузырями, игрушкой — и тот что-то повторяет и говорит. Нарушение социальной функции есть: ребенок не начинает взаимодействие по своей инициативе, он не реагирует, когда мама с папой его зовут, но с другой стороны, он и не крайне отчужден, достучаться до него можно — и к специалисту он привяжется, и будет реагировать. Вот такая умеренная симптоматика в критерии Каннера не попадает.
А еще есть дети, которые стремятся к общению, хотят дружить, пытаются заводить контакты, но делают это неуклюже. Над ними смеются, иногда считают грубыми, заносчивыми. Однажды я диагностировал аутизм девятнадцатилетнему парню. Когда он был мальчиком и хотел дружить, он всегда закладывал ребят в классе. Вот такое было черно-белое мышление, что надо говорить правду. Ну и понятно: класс накосячил, приходит учитель и говорит, мол, кто разбил гипсовый конус? Мальчик встает и докладывает: «Вася сделал вот это, Коля сделал вот это». У него такое представление о том, как надо себя вести в социальном контакте, и он не понимает неуместности этого поведения. Это тоже социальное коммуникативное нарушение. Но, опять же, оно в критерии Каннера не попадает.
К слову, Каннер десятки лет наблюдал людей и со временем заметил, как начинается поверхностная социализация, как они начинают взаимодействовать. В итоге свои представления о том, как выглядит аутизм, он пересмотрел. Это случилось и с нами тоже — мы заметно расширили представление о том, как выглядит РАС. Расширяя представление на чуть-чуть, мы стали собирать значительно больше людей. Небольшие расширения в плане правил диагностики приводят к тому, что на порядок увеличивается количество людей, которые в этой группе оказываются. Это такой важный закон психометрии.
Люблю один пример приводить. Он не про аутизм, но хорошо все объясняет. Допустим, мы решаем, кто такой богатый человек. Миллиард долларов — это много денег. И тот, у кого есть миллиард долларов, богат. Людей с таким состоянием на свете не так много. А если у человека 100 миллионов долларов, он богат? Да. При этом людей, у которых столько денег, в мире гораздо больше. И человек с миллионом долларов тоже богат. Людей, которые подпадают под эти условия, еще больше. Мы изменили критерии определения богатства, и вот что получилось: сначала богатых были сотни, а потом стали сотни тысяч. Так же — с психометрией.
— А где описана вся возможная клиническая картина РАС? На какой документ врачи опираются, когда ставят диагноз?
— Есть две диагностические классификации. Одна европейская, называется МКБ-11. То есть было одиннадцать пересмотров этого руководства. А есть американская DSM-5. И там описано, что мы договорились называть расстройством аутистического спектра на данный момент.
Это гигантская интереснейшая работа, в которой участвует много экспертов. Мы сейчас пользуемся вот этими двумя классификациями. В описании аутизма они сильно совпадают: неидентичные, но очень похожи.

«Самый тонкий период — это нахождение в утробе»
— Иногда так бывает, что ребенок вроде бы развивался нормально, а потом словно что-то произошло — и он откатился назад. К примеру, говорил, а потом перестал. И ему впоследствии ставят аутизм. С чем это может быть связано?
— Подобное происходит в медицине нередко и никого не должно удивлять. Чтобы объяснить природу явления, я обычно для начала привожу пример с юношескими угрями. Они во многом генетически обусловлены. Это значит, у человека заложено в генах, будут ли у него прыщи. Если он носитель проблемы, а угрей еще нет, просто еще не пришло время. Да, естественно, влияет что-то кроме — например, питание. Но на деле в первую очередь здесь играет роль генетика.
С развитием похожая картина. Фантастические изменения и в размере мозга, и в его развитии в первые годы жизни не случатся с человеком никогда больше. Маленький ребенок — это любопытство на ножках. Он все время изучает, что происходит в этом мире, как люди общаются друг с другом. В три года он осваивает язык, пользуется предложениями. То есть всего за несколько лет у человека формируется то, к чему природа эволюционно шла тысячи лет. Слово «чудо» здесь уместно.
Развитие ребенка напрямую связано с тем, что происходит в голове. Там протекает масса разных процессов, своего рода спецификации нервной системы. И это регулируется каскадом генетических программ. Так вот, если у человека заложена какая-то генетическая проблема, можно увидеть, как одна из этих программ строилась-строилась, выдавала «окей», а в один момент бах — и все рассыпалось. Я сейчас объясняю очень условно. Но то, что должно было сократиться и перестать работать, не перестает. То, что должно было специализироваться, не специализируется, а продолжает развиваться в той же степени, в которой развивалось. С этих пор мы начинаем видеть симптоматику нарушения развития — получается, будто какой-то прежний опыт стирается или не развивается, становится заметно, что что-то не так. Вот это один сценарий.
А иногда не все бросается в глаза родителям. Они знают: ребенок раньше разговаривал, а теперь нет. Но они могли не обратить внимание, что его речь никогда не была коммуникативной. Ребенок, например, лишь повторял, что слышал. Потом, в полтора — два года, эта некоммуникативная речь пропала, а ничего нового не появилось. И кажется, что это регресс, а на деле это изначально искаженное развитие.
И еще возможен третий сценарий — он сильно реже случается, но тоже есть, — когда у человека развивается какое-то еще расстройство, большее, нежели нарушение развития. И оно начинает среди прочего влиять на развитие и психику. Таковы, например, разные виды эпилептических энцефалопатий, некоторые обменные нарушения. Знаменитый пример — фенилкетонурия, когда не перерабатывается фенилаланин. Ребенок растет — фенилаланин накапливается и в какой-то момент начинает убивать нервную систему, если не посадить ребенку на диету.
— Получается, аутизм всегда генетически обусловлен? А что-то извне способно повлиять на его развитие?
— Иногда говорят, что генетика взводит курок, а природа может его спускать. То, что происходит, когда ребенок развивается в утробе, играет огромную роль — мы в этом уверены. Самое простое доказательство — употребление алкоголя во время беременности. Если мама ребенка пьет алкоголь — мы не знаем сколько, но, видимо, все-таки надо упиваться и регулярно употреблять, — у плода могут быть последствия: от каких-то небольших проблем типа импульсивности, гиперактивности до более тяжелых — аутизма, интеллектуальной недостаточности, двигательных расстройств.
Возможно, экология тоже играет роль: вероятно, там, где она плохая, проблем с развитием больше. Это пытаются изучать.
Есть одно из важных лекарств в психиатрии, в нейрологии — вальпроевая кислота
Поэтому да, внешние факторы влияют, но не все. И самый-самый тонкий период — это все-таки нахождение в утробе
— То есть все, что происходит с ребенком после рождения, не может спровоцировать развитие аутизма? Знаете, бытует мнение, что виноваты прививки, инфекции, стрессы…
— Пока нет данных об этом, хотя искали и очень старались. Были добросовестные исследователи, которые изучали причины возникновения аутизма и влияние вакцинации в том числе. Например, знаменитая американская организация «Аутизм-спикс» предполагала, что есть связь между прививками и развитием РАС. Но провела исследование и поменяла свою точку зрения.
Может быть, есть что-то, что влияет, но доказательств нет. Так что если кто-то говорит, что аутизм у вашего ребенка из-за того, что вы уехали отдыхать и оставили его дома с бабушкой, этот человек выходит за рамки научных знаний.
— Правда ли, что у мальчиков РАС возникает чаще?
— Да, как и все нарушения развития. Это, опять же, точно связано с генетическими факторами. Кроме того, девочки с аутизмом обычно более социально развиты. Многие из них способны эти симптомы обходить.
Для описания часто используют термин маскинг. Аутичные девушки и женщины порой настолько хорошо маскируют свои социально-коммуникативные особенности, что становится очень сложно увидеть РАС. И они же не всегда делают это осознанно. Скорее, наоборот, — автоматически. Мы, специалисты, называем это высокими имитационными возможностями. Из-за них женщинам бывает заметно труднее, чем мужчинам, получить диагноз. Я имею в виду в любой категории: детям и взрослым.
— Люди с РАС могут совершать стереотипные движения: покачиваться туда-сюда, ходить по кругу. В чем функция аутостимуляции?
— Иногда нам с вами хочется, например, чем-то занять руки, чтобы успокоиться. Человеку с РАС тоже нужны способы успокоения, и аутостимуляция в этом может помогать. Или еще одна важная функция — развлечение, отвлечение.
Иногда самостимуляция — это способ коммуникации, если других у человека нет. Я провожу для специалистов тренинги и предлагаю одно упражнение: запрещаю пользоваться словами и жестами, чтобы чего-то добиться от партнера — например, тебя надо похлопать по плечу или дать воды.
Попробуйте так сделать: это дико сложно. Участники тренингов в попытках что-то объяснить начинают качаться, ходить кругами, мычать. Вот как себя ощущают люди с аутизмом, у которых нет вербальных способов донести до другого свое желание. И аутостимуляция может означать, что ребенок что-то хочет вам сказать, — ему плохо, например.
У самостимулятивного поведения целый ряд функций, и это часто что-то напоминающее наше с вами самостимулятивное поведение. Но у нас есть много других способов развлекаться, успокаиваться, получать приятные ощущения, общаться, поэтому нам не так важно прибегать к самостимуляции, как людям с нарушением развития. Но они в этом смысле точно такие же, как люди без нарушений развития.
«Раннее вмешательство очень желательно, но что-то сделать можно всегда»
— Допустим, ребенку поставили РАС. Что происходит дальше? Его семью как-то сопровождают, или родителям приходится самим искать способы ему помочь?
— Я нарисую картинку, как должно быть в идеальном мире, но так не всегда бывает.
По большому счету, родителям не важны диагнозы. Им важно качество жизни ребенка: например, что он не говорит, или что все время кричит и не может объяснить словами, чего хочет, или что у него в саду совсем нет друзей. Поэтому в первую очередь семье надо дать представление о том, как это исправлять. А это можно сделать с помощью специальным образом организованного обучения.
Наладить программу развития — первый и самый важный шаг. Семья должна получить направление в подготовленный центр развития — не в тот, где ребенка обматывают проводами и бьют током малой интенсивности, а в тот, где его будут учить эффективной социальной коммуникации.
Обучить семью. По-хорошему родителям нужно дать навыки адвокации — это когда ты как взрослый представляешь интересы своего ребенка. Например, мама приходит в сад и говорит: «У меня не плохой ребенок — он лучший на свете. Но ему сложно в большом коллективе и он не из тех людей, кто привыкнет. Ему нужна помощь. Пожалуйста, предоставьте мне ассистента, и давайте он пока походит в группу из десяти человек».
Чтобы семья могла чего-то добиться, она должна знать, на что может рассчитывать. Важно предоставить информацию, книги, помочь выйти на какие-то сообщества. От того, что знают родители, очень многое зависит.
Адаптировать образовательную среду. Чтобы объяснить, насколько это важно, давайте обрисуем, что обычно происходит во время планирования беременности. Родители представляют себе, что ребенок пойдет в детский сад, пойдет, например, в ту же школу, куда ходил старший, к такому-то учителю. То есть у них в голове созревает некий план, и в рамках этого плана — это надо честно сказать — для нейротипичных людей есть места.
А если ребенок иначе устроен, вся система координат рушится: садик не умеет, не знает, учителя теряются и так далее. Поэтому образовательную среду крайне важно адаптировать. Это не значит, что всех детей с РАС надо помещать в специальные школы. Кому-то в спецшколе будет хорошо, а кому-то наоборот. Одному ребенку надо создать возможность учиться индивидуально, так будет эффективнее. А другого лучше учить в обычном классе.
Это про систему образования, которая будет гибкой, про реализацию закона об образовании, который предписывает индивидуальное отношение к ученику
Лечить сопутствующие расстройства — еще одно обязательное условие. У детей с аутизмом могут быть нарушения сна, серьезная раздражительность, эпилепсия, кожные, желудочно-кишечные заболевания и многое другое. Кажется, возьми любую болячку — и обязательно найдется аутичный человек с ней.
Но есть какие-то заболевания, которые встречаются чаще других. Это проблемы с ЖКТ, эпилепсия. И есть патологии с той же распространенностью, что и у нейротипичных людей. Мы с коллегой недавно описали случай буллезного эпидермолиза
— А какие есть методы коррекции с доказанной эффективностью для развития детей с РАС?
— Вот так можно сказать: есть программы с доказанной эффективностью. Программа — это готовый пакет решений. Специалисты буквально покупают руководство, как действовать, как оценивать ребенка, как поделить задачи, к чему это должно привести. Проходят обучение и потом начинают работать по этой программе.
И есть отдельные процедуры, которые могут помогать в преодолении конкретных связанных с аутизмом сложностей. Это подсказки, награды, моделирование определенного поведения, способы реагирования на нежелательное поведение и даже варианты наказаний — их, к слову, сейчас стараются использовать как можно реже из-за невысокой эффективности и побочных эффектов, — визуальная поддержка и другое. Из таких процедур хороший учитель может составить индивидуальный план обучения конкретному навыку — например, научить человека пользоваться туалетом или хорошо поддерживать светскую беседу.
К программам с доказанной эффективностью относят, например, Денверскую модель раннего вмешательства
Методики развития — это огромный мир для людей с аутизмом, большая индустрия. Существуют целые институты, которые этим занимаются. В 80-е годы в Америке люди из штата в штат ездили посмотреть, как это все устроено и как должно быть. Понятно, что сейчас такое в каждом штате у них есть. И в России теперь, к счастью, все тоже развивается: есть где освоить инструменты для разных задач обучения с доказанной эффективностью, есть у кого смотреть всевозможные процедуры, которые меняют что-то, что мы хотим изменить.
А 13 лет назад я одной семье сказал, мол, знаете, надо делать то-то и то-то. Они говорят: «А где у нас это есть?» Я ответил: «Нигде». И они организовали один из лучших центров в России, который занимается систематическим специальным обучением, основанном на поведенческом подходе. Это направление еще называют ABA-терапией — Applied Behavior Analysis, что переводится как «прикладной анализ поведения». Суть подхода — в использовании для изменения поведения законов взаимодействия, которые хорошо определены, изучены и на основании которых можно прогнозировать, как будут вести себя живые существа, в том числе люди. Например, один из важных законов такой: все, что происходит после определенного поведения, влияет на то, будет оно повторяться чаще или ослабевать. ABA-терапия использует систематические и целенаправленные подсказки, поощрения. Награды увеличивают вероятность повторения желаемого нами поведения, и дети осваивают новые навыки.
На меня как на специалиста сильно повлияло изучение терапии опорных навыков. Знаете, как это бывает: ты готовишься, пытаешься в чем-то разобраться, но только на практике наконец осознаешь какую-то идею. Я утрирую, но можно прочесть миллион книг по хирургии и, только начав оперировать, понять, как лечить людей, если ты хирург. У меня так случилось с терапией опорных навыков.

— В чем ее суть? Это какое-то логическое продолжение поведенческой терапии?
— Да, можно так сказать. Если точнее — развитие идей. Люди, которые занимались поведенческой терапией — они были у истоков, чуть ли не у Ловааса учились
И эти специалисты направили инструменты поведенческой терапии — подсказки, награды, поощрения — на то, чтобы человеку понравилось общаться. Их мишень — научить мотивации на контакт. Логика в том, что когда обучение доставляет удовольствие, ребенок повторяет что-то много раз и в итоге оттачивает навык до того состояния, которое нам нужно. В этом тоже отличие от идей Ловааса, который хотел обучить ребенка каждому необходимому умению.
Здесь вообще неважно, чтобы дети все и всегда делали десять раз из десяти. Не нужно, чтобы это было идеально. Важны попытки, поэтому их всегда поощряют.
— Как выбрать для ребенка оптимальную терапию, программу развития, место, где он будет учиться?
— Каждый случай РАС у ребенка нужно разбирать и составлять свой план работы. Специалист должен определить уровень функционирования, выявить проблемы и выбрать конкретные способы вмешательства. Важно отличить не аутизм, а человека, построить понятную картину того, что именно с ним происходит. Это комплексная и индивидуальная работа, но в то же время пути, по которым нужно двигаться, сейчас вполне понятны и конкретны.
Если у ребенка, например, симптоматика с большой выраженностью, с интеллектуальной недостаточностью и эпилепсией, лечим так: много часов структурированных занятий, противоэпилептические, антипсихотики и обучение родителей.
Если аутизм с небольшим уровнем выраженности симптомов, без нарушения интеллекта, с депрессией — например, ребенка в школе травят, — нужны лечение от депрессии, индивидуальная когнитивно-поведенческая или похожая психотерапия, защита от травли.
Если у ребенка расстройство с умеренной симптоматикой и без интеллектуальной недостаточности, есть СДВГ, сложности поведения — он вроде как такой веселый оболтус, всех толкает, смеется, — составляем программу обучения, поведения, послушания. Учим родителей, что делать с вот этой оппозиционностью, выбираем лекарство от СДВГ. Думаем, какая конкретно школа в его случае должна быть, готовим ее. Может быть, достаточно будет просто объяснить, что на ребенка кричать не надо — он такой человек, — и предложить почитать книжку, как вести себя с ним в разных ситуациях.
Все зависит от человека, от уровня его сложностей. Есть такие формы аутизма, когда мы ничего особо не делаем, скорее поддерживаем и объясняем, а ребенок растет очень умным, у него сопутствующих расстройств нет, симптоматика очень легкая. Школу для него выбрал получше, друзей нормальных организовал — и он себя вполне комфортно чувствует.
— Насколько важна ранняя помощь? Работает ли здесь принцип «чем раньше, тем лучше?»
— Чем раньше мы начинаем работать с социально-коммуникативным поведением, тем большего добиваемся, поэтому раннее вмешательство очень желательно. Но важно сказать: что-то сделать можно всегда. Если с ребенком не начали заниматься в семь месяцев, а начали в полтора года, не надо рвать на себе волосы, что вы плохой родитель. Можно и в три года много чего сделать, и в пять, и в пятнадцать.
— Мы часто произносим слова «лечение», «терапия». Можно ли при адекватном вмешательстве вылечить аутизм?
— Нельзя вылечить, потому что это не заболевание. Это особенность развития: у ребенка плохо с социальными навыками, и это часть его устройства. С другой стороны, он живой человек, он может учиться. У него могут появляться инструменты совладания — то, что мы говорили про имитацию. Взрослея, он может вырабатывать сценарии общения, находить себе тех людей, с которыми ему лучше. Это очень важная способность для хорошо развитых аутичных людей.
Меня поразил этот момент. Я одного очень интересного спикера и аутичную женщину спросил, какой бы навык она хотела иметь в детстве. Думал, она ответит, что хотела бы уметь поддерживать диалоги: у нее с этим были трудности. А она сказала, что хотела бы уметь выбирать, с кем ей общаться — кто для нее подходящий человек, а кто нет. Потому что она не умела этого раньше делать и ей часто доставалось.
И эта способность может развиться. Иногда такое происходит само по себе, иногда под воздействием терапии. Есть ситуации, когда у некоторых людей картина аутичных сложностей пропадает. Трудно объяснить, как и почему это происходит, но это называется оптимальным исходом. И все равно я не уверен, что можно сказать: мы вылечили аутизм.
Но лечить ребенка с РАС и адаптировать его нужно, развивать его нужно. Можно преодолевать проблемы, делать его счастливей, давать инструменты для достойной жизни — это те задачи, которые мы ставим. Но вылечить аутизм как аппендицит или пневмонию, конечно, нельзя.
«Когда сталкиваешься с аутизмом, ступаешь на территорию неопределенности»
— Как вы думаете, наше общество способно принимать нейроотличных людей, делать их частью социума?
— Этот вопрос уводит нас от психиатрического пласта, и я скажу не как врач. Знаю, что бывают уникальные классные истории вписывания особенных людей в социум — таких историй не одна и не две, их много. Я знаком с аутичным мужчиной — это папа мальчика с РАС. Они приходили ко мне на консультацию. Отец очень любит мотоциклы, круто в них разбирается, знает все про их устройство и сидит на тематических форумах. Сам при этом на мотоциклах не катается, довольно нелюдимый человек. Так вот его круг общения — байкеры, суровые мужики лет 30—50, которые от него просто в восторге, потому что он знает о мотоциклах все и готов от и до бесплатно каждого человека консультировать.
И еще пример: знаю одного чиновника с РАС. Он однажды мне сказал, что есть два типа чиновников: первые умеют организовывать людей, вторые очень хорошо разбираются в своей специальности. Мол, я отношусь ко второй группе: у меня узкий интерес. И он занимает в правительстве — сложном бюрократическом непростом аппарате — не последнюю руководящую должность, потому что его компетенции, знания и способность вгрызаться в тему очень ценят.
Но есть и другие истории — невписывания и страданий, особенно когда речь идет про людей с серьезной симптоматикой, тяжелыми нарушениями развития. Если человеку нечего предложить обществу, он, к сожалению, оказывается человеком без места. Ну как… с местом, которое называется интернатом. До сих пор эта проблема никаким образом не решена, и не похоже, что она решится в ближайшее время. Готовой системы помощи в России нет. Хотя, конечно, находятся люди, которые тебя поддержат.
Для кого-то находится место, для кого-то нет. Кому-то очень везет, другому не везет вовсе. Если человек, например, подопечный фонда «Антон тут рядом» или каких-то других, ему помогут и на работу устроят. А если ты сам по себе, тогда как у тебя получится, так и живи. Проблема в том, что государство в твоей судьбе, скорее всего, не примет никакого участия.
— Говорят, что люди с РАС чаще других обладают экстраординарными способностями. Так ли это и может ли быть связано как раз с тем, что они досконально изучают то, что им интересно?
— Доказательств того, что экстраординарных способностей больше у людей с РАС, чем у людей без РАС, нет. Скорее наоборот, к сожалению. То есть у человека с аутизмом выше вероятность интеллектуальной недостаточности, а экстраординарные способности и интеллектуальная недостаточность — это два разных полюса.
Просто успехи ребенка с РАС в какой-то области на фоне его трудностей ярче бросаются в глаза. Для некоторых это становится благословением. У человека есть свой набор дефицитов, но он знает что-то интересное в мире и начинает в себя интеллектуально инвестировать — как в истории с мотоциклами. И потихонечку его начинают принимать, потому что он очень компетентен в этой области.
— Что, по-вашему, нужно делать, чтобы помочь родителям детей с РАС?
— Конечно, родителям экстремально сложно. Мы с вами немного говорили: когда рождается ребенок, в каждой семье возникает представление о его будущем. Будет ли он как Илон Маск, неизвестно, но контуры мама и папа себе представляют: в сад пойдет, в школу пойдет, сможет как-то реализоваться. Когда сталкиваешься с нарушением развития, с аутизмом, ступаешь на территорию неопределенности: ты не знаешь, как будет. Может быть, будет хорошо. А может быть, будет вообще беда.
Такая неопределенность мощнейшим образом дестабилизирует. Чувства родителей бывают очень сложными, сильными. Тут нельзя однозначно судить, но мне кажется, что главное, в чем они нуждаются, это не психологическая поддержка. В первую очередь им нужен доступ к нормальной помощи.
Родители говорят: «Объясните мне, что с ребенком происходит, куда идти?» А им отвечают, мол, да это у него аутизм, ничего хорошего не ждите. Если вот такой ерунды нет, а есть деловая беседа, где семье объясняют, что можно сделать, над чем нужно работать — неопределенности меньше, чуть лучше себя эмоционально чувствуешь. А если вместе с тобой над ребенком работает целая команда — воспитатели детского сада, логопед, центр поведенческой терапии, — тогда еще чуть проще справляться.
Материалы, которые помогут родителям сохранить бюджет и рассудок, — в нашем телеграм-канале @t_dety