От грамот до личных фондов: как в России передавали имущество
X-XV века: духовные и княжеские грамоты
В Древней Руси смерть была не концом, а бюрократической процедурой с мистическим уклоном. Надо было не просто «уйти в мир иной», а правильно распорядиться тем, что оставляешь здесь: кому город, кому дом, кому грех.
Самое знаменитое завещание того времени — грамота Ярослава Мудрого от 1054 года. Он не только распределил земли между сыновьями, но и установил некий порядок престолонаследия, своего рода семейный кодекс с оговорками. Это был и политический документ, и акт собственности, и жест семейной дипломатии.
Но за рамками великокняжеской воли развивалась практика куда более массовая — духовные грамоты. Это были тексты напоминающие одновременно «Отче наш» и опись имущества. Чаще всего начинались они так: «Аз, раб Божий такой-то, душу свою предаю Господу, а из остального распоряжаюсь так...» — и далее следовал список: детям — земля, вдове — дом, монастырю — ковер, а церкви — «за упокой души моей».
Грехи тоже можно было завещать. Не буквально, но в тексте часто упоминалось, что покойный просит близких молиться за него, ибо душа его «отягощена». За него нужно было «ставить свечи», «давать милостыню» и «не злобиться друг на друга», чтобы не усугубить его участь на Страшном суде. Можно сказать, что это было наследственное планирование с элементами загробного пиара.
Духовная грамота была гибким документом. Она позволяла как передать вотчину, так и установить порядок распоряжения, пока наследники были малы. Встречались и такие случаи: вдове поручалось «держать двор», пока сын «подрастет и возмужает», а когда тот войдет в силу — двор возвращается ему. Все это оформлялось при свидетелях, нередко — в присутствии духовника или дьяка, грамотного писца, который мог вложить в простую строчку сразу три слоя смысла и намеков.
 ДУХОВНАЯ ГРАМОТА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА. ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ НА НАСЛЕДОВАНИЕ ВЛАСТИ СТАРШИМ СЫНОМ ВАСИЛИЕМ I. 1389 год.
ДУХОВНАЯ ГРАМОТА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА. ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ НА НАСЛЕДОВАНИЕ ВЛАСТИ СТАРШИМ СЫНОМ ВАСИЛИЕМ I. 1389 год.
По словам исследователя Юрия Алексеева, духовные грамоты московских князей XIV века выполняли не только семейную, но и политико-правовую функцию — они фиксировали распределение уделов и выстраивали конфигурацию власти в княжестве. Иными словами, это была форма политического завещания, заверенного святым духом.
Составлялись такие грамоты заранее — иногда за много лет до смерти. Их могли обновлять: вносить поправки, заменять имена и передвигать доли. Это был своего рода прототип многоразового завещания — гибкого инструмента, особенно актуального в эпоху, когда смерть могла прийти внезапно, а конфликты с наследниками — еще быстрее.
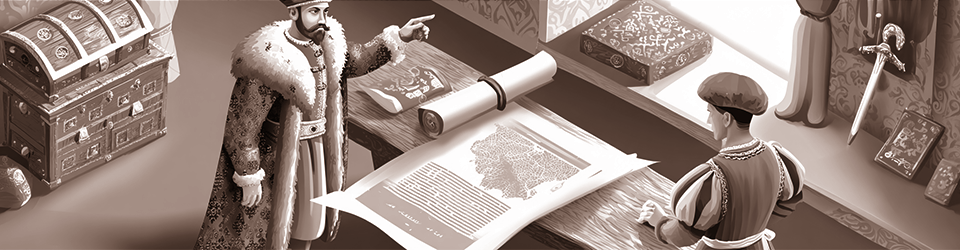
XVI-XVII века: вотчины, поместья и служба с наследством
В это время наследственное планирование становится государственным делом — в буквальном смысле. В эпоху Московского государства право на имущество напрямую зависело от службы. Хочешь жить на земле? Докажи верность. И не один ты — пусть сын твой тоже послужит. И внук. А там видно будет.
В центре этой системы стояли поместья — земля, которая не принадлежала тебе навсегда, а давалась во временное пользование за службу. Получил — служи. Перестал — будь добр, освободи. Это была, по сути, аренда с условием участия в феодальной армии. Но постепенно, через лазейки и протекции, поместья начали переходить по наследству, особенно если сын шел по стопам отца. Так государство поощряло лояльность.
По словам историка Сергея Деханова, в реальности различие между вотчиной и поместьем начинало стираться: служебное владение все чаще превращалось в наследственное. Это был компромисс: власть не могла себе позволить массово лишать бояр и дворян имущества, особенно в нестабильные времена. Землю начали передавать по факту, а право узаконивать задним числом.
Вотчины, в отличие от поместий, изначально были наследственными. Это родовые земли, которые можно было завещать, дарить, продавать. Причем с полным набором: крестьяне, амбары, гумна, леса, рыбные места и — юридически — имя семьи. Вотчина определяла статус: быть вотчинником — это не просто иметь землю, это быть кем-то.
При этом наследование не всегда означало свободу. В документах встречается такая оговорка: «наследует, а службу нести по-прежнему». То есть имущество переходило, но вместе с ним — и обязанность. Это как если бы вам завещали квартиру с обязательством каждое утро водить на прогулку государеву собаку. В XVII веке этой собакой была служба в стрельцах или участие в ополчении.
 «ТОРГ. СЦЕНА ИЗ КРЕПОСТНОГО БЫТА. ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО». Автор: Н.НЕВРЕВ. 1866 год
«ТОРГ. СЦЕНА ИЗ КРЕПОСТНОГО БЫТА. ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО». Автор: Н.НЕВРЕВ. 1866 год
Наследственные споры были делом привычным — особенно если в семье несколько сыновей. Как делить: кому достанется лучшее поле, кому мельница, а кому — вообще ничего? Начинались тяжбы, поиски старых грамот, разборки в приказах. Постепенно сами документы становились все формальнее: купчие, закладные, передаточные писались уже не простым языком, а в строгом юридическом стиле. В них закреплялись устойчивые формулы вроде: «А кто ослушается — на том проклятие и гнев великого государя». Страх, наряду с бумагой и печатью, был важным инструментом, чтобы завещание исполнили точно.

XVIII век: указы о единонаследии и майораты
Если в XVII веке наследство было делом семейным, то в XVIII веке оно стало делом государственной важности. Особенно после того, как на трон с царским взмахом руки вступил Петр I. Он хотел сильную империю, где поместья — это не детский конструктор, который можно делить на части и терять. Он хотел стабильности. И придумал указ о единонаследии.
В 1714 году Петр I ввел новый порядок: вся недвижимость — дома, усадьбы, земли — должна отходить одному наследнику. Обычно — старшему сыну. Никаких равных долей, никакой семейной демократии. Идея была проста: не допустить, чтобы родовое имущество распилили на мелкие куски. По замыслу императора, «мелкопоместный дворянин» — опора так себе. А вот крупный владелец, сосредоточивший все в одних руках, — уже сила, на которую можно опереться.
Историк Дарья Литвиненко называет указ поворотным моментом, когда наследование стало рычагом административной политики: сохранение земельной целостности рассматривалось как элемент государственного управления. Иными словами, наследственное право подогнали под интересы армии и бюрократии.
Но радость старшего — часто оборачивалась бедой для младших. По закону им ничего не полагалось: ни земли, ни дома. Оставался один путь — «служить государю» или удачно жениться. Так наследственное право превращалось в карьерный толчок: хочешь чего-то добиться — иди в армию, на флот, в коллегии или монастырь. Старт в жизни — через отказ от наследства.
Но уже через 17 лет — в 1731 году — закон отменили. Общество не выдержало. В семьях росло недовольство, начались споры и злоупотребления. Недвижимость снова стали делить между всеми детьми. Вместо обязательной передачи всего имущества одному наследнику появился новый тренд — майораты. Это особый порядок наследования, при котором все имущество — дом, земля, усадьба — переходит одному, чаще всего старшему в роду. Но в отличие от закона Петра, майорат стал частной инициативой: владелец сам решал, закрепить ли такую схему в завещании.
 ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, КОТОРЫЙ А. ГОНЧАРОВ ПРЕВРАТИЛ В МАЙОРАТ. XX ВЕК
ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, КОТОРЫЙ А. ГОНЧАРОВ ПРЕВРАТИЛ В МАЙОРАТ. XX ВЕК
Майорат быстро стал аристократической стратегией. Он позволял сохранить фамильное богатство, имя и влияние. Остальные наследники получали компенсацию: деньгами, должностями или через брак с хорошим приданым. Иногда майорат оформляли в специальных уставах рода — с гербом, печатями, подписями. Настоящая семейная конституция: кто получит, кто подождет, и на каких условиях.
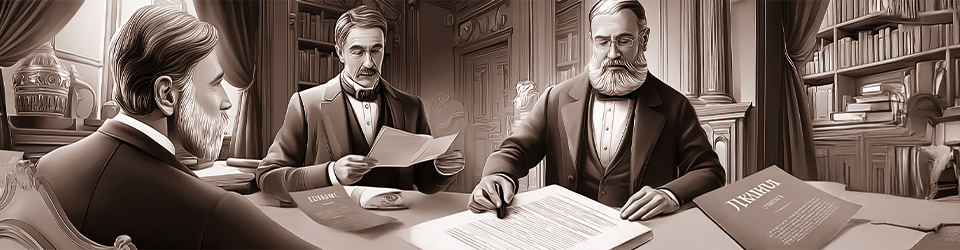
XIX век: купчие, акции и правовая зрелость
XIX век — это время, когда слово «наследство» все чаще звучало в окружении слов «банк», «фабрика», «акция» и «купчая». Россия медленно, с достоинством и оглядкой на Европу входила в капитализм. Менялось и само представление о наследстве: теперь это не только земля или усадьба, но еще и бизнес, доля в предприятии, инвестиция.
Купчая стала билетом в буржуазное общество. Простая на вид бумага, но с юридической силой — она подтверждала сделку купли-продажи недвижимости или имущественного права. Если раньше землю передавали «по слову» или «на смертном одре», то теперь — через нотариуса, с подписью и печатью. Купчая становилась не просто документом, а символом нового класса: грамотного, расчетливого, ориентированного на рынок.
 КУПЧАЯ МАЙОРШИ Е.ЛОПАТИНОЙ ЧИНОВНИЦЕ 6-ГО КЛАССА А.ТЕРЕНТЬЕВОЙ НА СВОИХ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА СЕЛЬЦА ИЛЬИНСКОГО. 1827 год
КУПЧАЯ МАЙОРШИ Е.ЛОПАТИНОЙ ЧИНОВНИЦЕ 6-ГО КЛАССА А.ТЕРЕНТЬЕВОЙ НА СВОИХ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН БУЗУЛУКСКОГО УЕЗДА СЕЛЬЦА ИЛЬИНСКОГО. 1827 год
Интересно, что в XIX веке наследственные дела окончательно переезжают из усадеб в города. Наследуют уже не только дворяне, но и купцы, ремесленники, мещане. В архивах Екатеринослава или Твери — целые семейные драмы: вдова спорит с детьми, старший сын предъявляет векселя, младшая дочь ссылается на «волю батюшки, записанную при свидетелях». Завещание становится поводом для конфликта — и поводом для юридического разбирательства.
В столицах в это же время появляется новая форма богатства — акции. С середины века в России стремительно развиваются акционерные общества: строят железные дороги, банки, фабрики. Их доли можно передавать по наследству — и это меняет саму природу наследства. Теперь оно может быть «невидимым» — без земли, но с доходом. Это настоящая революция.
Как пишет историк Павел Лизунов, акции становятся «одной из форм участия широких слоев населения в предпринимательстве — в том числе и через наследование». Так появляется новая фигура — наследник-акционер. Он может ни разу не видеть предприятие, но все равно получать дивиденды — просто по праву собственности на бумагу.
Женщины тоже входят в игру. Благодаря юридическому оформлению прав собственности, вдовы и дочери получают возможность не только наследовать, но и распоряжаться имуществом. Да, часто через мужей или опекунов, но их имена начинают появляться в купчих, а в завещаниях все чаще прописывают приданое, процентные вклады и «вдовью долю».
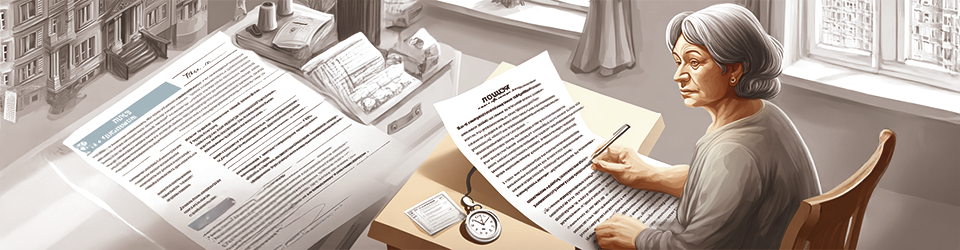
XX век: отмена собственности и наследство по лимиту
XX век начался для российской системы наследования с полной перезагрузки. Революция 1917 года не просто изменила власть — она отменила само понятие «частное имущество» в привычном смысле. Новая власть утверждала: все — народу, все — через государство, а значит, наследовать было нечего. Кроме, разве что, трудового энтузиазма.
Национализация обнулила целые династии. Поместья, дома, заводы — все ушло «во владение трудящихся». Потомки богатых фамилий оказались в коммуналках, лагерях или ссылках. Завещания сгорали в печах, лежали забытыми в ящиках, исчезали в банковских хранилищах. Кто-то пытался «перезавещать» имущество в пользу государства, лишь бы сохранить хоть часть — но такие жесты не имели юридической силы.
Но уже в 1922 году в Советской России приняли Гражданский кодекс РСФСР, который неожиданно вернул институт наследования. С оговорками, лимитами и и понятной идеологией: не допустить накопления богатства, уравнять всех. Завещать было можно, но в ограниченных пределах. Завещать можно, но только в пределах установленного «максимума». Все, что сверх — переходило государству. Книжный шкаф — пожалуйста. А вот если в нем сервиз или коллекция серебра — извините, не положено.
 «РАЗГРОМ ПОМЕЩИЧЬЕЙ УСАДЬБЫ». И. ВЛАДИМИРОВ. 1926 год
«РАЗГРОМ ПОМЕЩИЧЬЕЙ УСАДЬБЫ». И. ВЛАДИМИРОВ. 1926 год
Согласно анализу правоведов, наследственное право того периода решало две задачи одновременно: дать гражданам ощущение юридической стабильности — и при этом не позволить сосредоточить в одних руках слишком много. В итоге возникла двойственная система: формально наследование существовало, но по сути оставалось инструментом государственного контроля.
Государство стало главным наследником. Если не было завещания или родственников, имущество автоматически переходило в собственность республики. И никакой лирики. Душеприказчики исчезли как класс, духовные грамоты стали анахронизмом. Наследство перестало быть «священным долгом» и превратилось в часть плановой системы — без сентиментов.
Впрочем, в частной жизни люди продолжали действовать по-своему. Передавали вещи «по-тихому», записывали имена на сберкнижках, договаривались с соседями. Завещание стало формой личной воли в условиях общего равенства. Скромное, но упорное сопротивление идее «все — государству».
К концу XX века, особенно в 1980-х, ситуация начала меняться. Гласность, экономические реформы, первая кооперация — все это подогревало интерес к наследству как частной собственности. Люди начали вновь спрашивать: а можно ли оставить магазин, квартиру, акции (если появятся)? Система трещала, но еще держалась.

Конец XX – начало XXI века: трасты, офшоры и семейные офисы
Сразу после распада СССР Россия оказалась в настоящем «наследственном триллере». С одной стороны — десятилетия запрета на частную собственность, с другой — вдруг все можно. Заводы — приватизируются, квартиры — тоже, акции буквально падают с неба. Владей, распоряжайся, передавай по наследству. Вот только — кому и как?
Юридических инструментов почти не было. Богатства появлялись быстрее, чем правила их наследования. Завещания снова стали привычным делом, но те, у кого активы шли на миллионы, быстро поняли: российское право пока не умеет защищать капитал в перспективе нескольких поколений.
Тогда в дело вошли зарубежные конструкции — прежде всего британские, кипрские, швейцарские трасты. Через них можно было владеть компаниями, недвижимостью, яхтами — и главное, передавать все это по наследству. Без шума, без суда, с налоговыми льготами. Траст — это форма юридического доверия. Имущество передается трасти (управляющему), а он распоряжается им в интересах бенефициаров: детей, внуков, благотворительных проектов. Все можно настроить: скрыть имена, выбрать юрисдикцию, прописать условия — хоть «если окончит Оксфорд», хоть «если не женится на блогерке». По оценкам правоведов, к началу 2010-х до трети крупных российских состояний были структурированы через офшорные трасты.
В это же время появляются семейные офисы — частные управляющие компании, которые берут на себя контроль за активами, инвестициями, налогами и... завещаниями. Их клиент — не просто богатый человек, а династия. Подход меняется: важно не просто передать, а сохранить, защитить и приумножить.
 «СЕМЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ (РАЗДЕЛ ПО НАСЛЕДСТВУ)». Н. НЕВРЕВ. 1888 год
«СЕМЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ (РАЗДЕЛ ПО НАСЛЕДСТВУ)». Н. НЕВРЕВ. 1888 год
Но все это происходило вне рамок российского законодательства. Собственных трастов или аналогичных механизмов в законе не было. Поэтому наследственное планирование «по-русски» в те годы — это тонкая работа на стыке юрисдикций: российский паспорт, кипрская компания, швейцарский счет, лондонский траст.
Тем не менее, и в обычной жизни происходили перемены. Завещания снова стали нормой. Люди все чаще стали интересоваться не только квартирами, но и банковскими вкладами, накоплениями и доле в бизнесе. Идея «оставить после себя не только мебель» снова стала уважаемой — и юридически оформляемой.
Так на рубеже XX и XXI веков Россия жила сразу в двух наследственных реальностях. Первая — привычная: квартира, дача, завещание у нотариуса. Вторая — гибкая и сложная: трасты, активы в офшоре, управляющие структуры. Эти два мира шли параллельно. До 2022 года.

2022 год: личные фонды — современный инструмент планирования наследства
1 марта 2022 года в России заработал закон, которого давно ждали те, кто хотел не просто «передать имущество», а установить правила его использования. Это был не просто новый правовой инструмент, а ответ на годы работы через офшоры и зарубежные трасты. Так в российском праве появился личный фонд.
Личный фонд стал чем-то среднее между трастом, завещанием и семейным советом. Его учредитель при жизни передает в фонд имущество — бизнес, акции, недвижимость — и прописывает, кто и на каких условиях будет этим владеть. Назначаются бенефициары — от детей до любимого кота — и расписываются условия: кто, когда, сколько и при каких обстоятельствах получит.
Порог входа — 100 миллионов рублей. Весьма элитарная планка, сразу дающая понять: речь идет о крупных капиталах и стратегиях передачи власти, а не о даче в Серпуховском районе. Но именно здесь Россия наконец создает свой аналог западного инструмента наследственного планирования — и делает это в духе XXI века.
Фонд может быть бессрочным и включать «переходный период»: пока учредитель жив — он управляет, после — вступают в силу заранее прописанные правила. Можно ограничить доступ к активам, назначить наблюдательный совет или, например, привязать получение доли к конкретным условиям: «если окончит Бауманку, а не театральный».
В чем отличие от завещания? В гибкости. Завещание — это разовое действие. А фонд — это процесс: с управляющим, с условиями, с возможностью влиять на судьбу капитала даже после смерти. По сути, это завещание с управлением и обратной связью. Завещание будущего.
И вот, почти тысяча лет истории — от духовных грамот до фондов — приводит нас к новой точке отсчета. Сегодня наследство — это не просто про завещать. Это про стратегию. Про управление. Про ценности. А в лучших случаях — и про смысл.
Источники: Ю. Г. Алексеев Духовные грамоты князей московского дома XIV века как источник по истории удельной системы. СПБИИ РАН, 2020., С. А. Деханов. Вотчины и поместья в российском гражданском праве: особенности закрепления и наследования. Наследственное право, Nº 3, 2018., Д. А. Литвиненко Ретроспектива норм наследственного права как исторической основы возникновения института наследственного фонда // Юридические исследования. 2020. № 9. С.64-75, П. В. Лизунов Российское общество и фондовая биржа 60 второй половине XIX - начале XX в.
